От Рэя Брэдбери до советской системы «СФИНКС»: как эволюционировала концепция «умного дома»
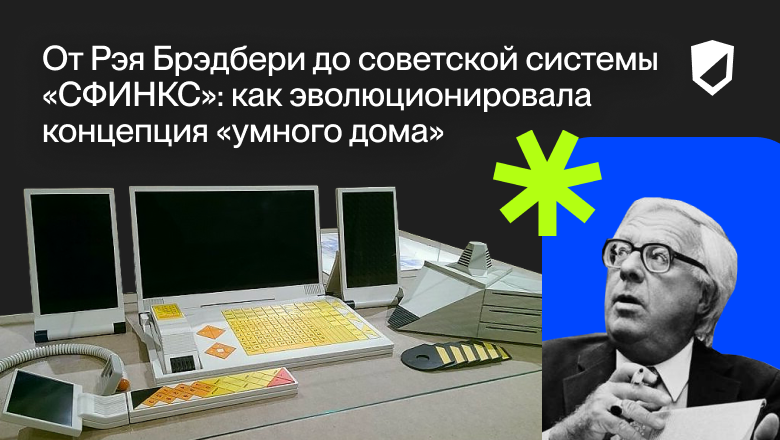
В истории «умного дома» с начала прошлого века до его середины зияет лакуна, которую историки «умного дома» называют периодом накопления «критической массы» бытовых электромеханических автоматов — помощников в быту: пылесоса, стиральной машинки, электросушилки, тостера, телевизора, проигрывателя, магнитофона и т.д., которые затем были должны перейти под централизованное управление.
Так и вышло. Только теоретиком первого «умного дома» в современном его понимании стал писатель-фантаст Рэй Брэдбери, а практиком-экспериментатором пенсионер Эмиль Матиас, а не штатные инженеры ведущих компаний-производителей «умной» бытовой техники. Произошло это практически одновременно — на протяжении одного года, 1950-го. В этом году мало кому известный кроме своих коллег из Лиги писателей-фантастов» в Лос-Анджелесе Рэй Брэдбери, который продавал местным издателям свои рассказы по 10–20 долларов за штуку, стал знаменитым.
Годом раньше он получил неожиданное для него предложение от крупнейшего на тот момент в Америке издательского дома Doubleday & McClure Co. опубликовать книгу на апокалиптическую тему — ядерной войны и ее последствий. Тема выглядела по тем временам беспроигрышной. «Холодная война» набирала силу. Весной 1949 года министр обороны США сошел с ума и выбросился из окна 16-го этажа с криком «Русские идут!». Летом того же 1949 года Советский Союз провел испытания собственной атомной бомбы. А летом следующего 1950-го года началась в Корее «горячая» прокси-война между Америкой под флагом ООН с одной стороны и Советским Союзом и Китаем с другой.
И тогда же выходит в свет книга Брэдбери «Марсианские хроники», повествовавшая о том, как люди переселились на Марс после ядерной войны на Земле. Вышла она одновременно на английском и на испанском языках (предисловие к испаноязычному изданию написал сам Борхес), и в течение года-двух была переведена на главные европейские языки, а в 1965 году была опубликована и в СССР. Во всем мире ее прочитали миллионы людей. А первый миллион из них еще до публикации всей книги, состоявшей из коротких новелл, прочитал предпоследний из них, 27-й по счету из 28, под названием «Будет ласковый дождь» в мартовском номере журнала «Collier’s magazine» за 1950 год.
Этот журнал был популярным среди читающей публики, его тираж в те годы превышал миллион экземпляров. Помимо прочего в нем печатались как рассказы живых классиков, например, Скотта Фицджеральда, Синклера Льюиса и самого плодовитого детективного писателя всех времен и народов Эрла Стенли Гарднера, так и будущих знаменитостей, например, Сэлинджера и Курта Воннегута. С той же целью промоушена нового писателя Брэдбери в «Collier’s magazine» был опубликован его рассказ из «Марсианских хроник». Не без соответствующей благодарности издателя первой книги Брэдбери, разумеется. Такие дела на самотек не пускают.
Почему издателем была выбрана именно эта новелла Брэдбери и его из «Марсианских хроник», сказать трудно. Наверное, она была самая «земная» из всех остальных. В ней шла речь о доме, чудом уцелевшим в атомной войне и продолжавшем жить своей привычной жизнью уже без своих хозяев, от которых остались только силуэты на стене дома: отец с газонокосилкой, мать, что-то делающая на грядках, их сын и дочь, играющие мячом.
По утрам говорящие часы по-прежнему будили хозяев в одно и то же время, кухня готовила им завтрак, потом убирала со стола нетронутую еду, мыла посуду, часы сообщали прогноз погоды, напоминали хозяевам о неотложных делах, гараж автоматически открывал двери, потом закрывал. Так же автоматически отворялись и затворялись окна, задергивались шторы. Выползали роботы-мыши и наводили в доме чистоту, не пропуская ни пылинки. И так далее вплоть до вечерних мультфильмов детям и чтения стихов хозяйке на ночь. Словом, делалось все то, что должен делать «умный дом» с точки зрения человека 50-х годов прошлого столетия. В конце рассказа дом ночью из-за случайности сгорает, потому что в его резервуарах закончилась вода на тушение пожаров, но с утра из его дымящихся руин по-прежнему слышится «Сегодня 5 августа 2026 года, сегодня 5 августа 2026 года, сегодня…».
Рассказ печальный и, конечно же, не об «умном доме», этот термин появился только в 1980-е годы. Но его описание в столь трагическом контексте и, если угодно, его концепция закрепилась в сознании миллионов людей по всему миру гораздо прочнее, чем если бы рассказ Брэдбери был просто о возможностях и технологиях «умного дома». О них, технологиях, в его рассказе была только одна фраза: «Где-то в стенах щелкали реле, перед электрическими глазами скользили ленты памятки».
Случайно так вышло или нет, но о технологиях не фантастического «умного дома», реально существующего рассказал своим читателям в декабре того же 1950 года другой американский журнал «Popular Mechanics» с таким же, как у «Collier’s magazine», тиражом свыше миллиона экземпляров. «Дом на кнопках» («Push-Button Manor»), как его назвали в «Popular Mechanics», создал для себя Эмиль Матиас в городе Джексоне, штат Мичиган. В отличие от Брэдбери про мистера Матиаса до сих пор известно только то, что он рассказал о себе корреспонденту «Popular Mechanics». А рассказал он ему лишь то, что с юности увлекался механикой, соорудил из кулинарных формочек и электромагнита звонок-колокольчик во входную дверь и кофемолку с приводом от ветряной мельницы, недавно пережил инфаркт (доктор запретил ему лишний раз ходить по ступенькам, и он сделал себе эскалатор в подвал дома) и что живет он этом доме с женой и сыном только два года. Об остальном можно только догадываться.
Судя по фотографиям в журнале, ему было за 50 лет, а по фразе «о мечтах военного времени о ленивой жизни в послевоенных домах с кнопками для выполнения всей работы» он, наверное, воевал. Если у него и было инженерное образование, то работа по специальности была уже в прошлом. Был он человеком обеспеченным, бедные не покупали шестикомнатные дома, и явно не был склонен афишировать свое прошлое. Так что вполне могло быть, что в прошлом он либо был военным, либо работал на ВПК. Во всяком случае механизм закрывания окон его дома при начале дождя приводил в действие моторчик бомбового прицела. Но как бы там ни было, в электротехнике он разбирался хорошо, обладал изобретательским талантом и в дополнение к нему имел «золотые руки», как говорят в народе.
В Джексоне с населением 30 тысяч человек о его увлечении наверняка многие знали, в провинциальных городках все друг о друге все знают. Но вот какая странность. 10 ноября 1950 года, в пятницу, в крохотном курортном городке Петоски на берегу озера Мичиган в ста милях от Джексона в очередном номере городской газеты вдруг появилась заметка под заголовком «Электричество приступило в работе в Джексоне». Совсем небольшая: «Электричество в доме Эмиля Матиаса закрывает все окна, когда идет дождь, включает пожарную и охранную сигнализацию, открывает и закрывает шторы в спальне и даже заставляет один радиоприемник с помощью дополнительных динамиков работать за четверых. Матиас, чьим давним увлечением является электротехника, говорит, что его счета за электричество примерно такие же, как у обычного домовладельца, потому что напряжение тока у него понижено до 28 вольт». Была ли это перепечатка из джексонской городской газеты или редактор газеты в Петоски сам узнал, что к Матиасу приехал (или собирается приехать) корреспондент «Popular Mechanics» из Чикаго, ныне покрыто мраком тайны, как говорится. Но в любом случае ясно, что в ноябре 1950 года вокруг «умного дома» Эмиля Матиаса началось какое-то шевеление, и, почувствовав это, своего шанса ушлые провинциальные журналисты не упустили, опередив коллегу из столицы штата.
А месяц спустя о «доме на кнопках» Матиаса узнала, можно сказать, вся Америка и не только она. Корреспондент «Popular Mechanics» писал: «Для случайного посетителя дом Матиаса ничем не отличается от любого другого комфортабельного американского дома — пока Матиас не коснется выключателя, и все начнет происходить! Все спрятано между балками пола или стенами. Здесь нет свисающих проводов. Вы бы и не заподозрили присутствия множества механических слуг, которые ждут вашей команды. Но просто зайдите в нервный центр системы, в шкаф в спальне Матиаса, и вы поймете, что этот дом не похож ни на один из тех, что вы когда-либо видели! Стены шкафа увешаны приборами. Выключатели, реле, часы, которые что-то включают, часы, которые что-то контролируют, термостаты, трансформаторы, выпрямители, ярды проводов, соединяющих все с чем-то другим! Для несведущих это кошмар электрика, но для Матиаса все это имеет смысл… Каждый из его механических слуг — его собственный дизайн и конструкция. Он признает, что во многих случаях мог бы купить коммерческие модели, но что в этом забавного?»
«Радио в гостиной можно включать и выключать из спальни (а также из кухни и подвала). Дополнительные динамики доносят звук до вас, где бы вы ни находились. Часы в шкафу выключают радио в 10 часов вечера и включают его в 6 утра. Когда миссис Матиас садится за свой туалетный столик, ей не нужно возиться с двумя лампами, чтобы включить их. Она просто выдвигает центральный ящик на долю дюйма, и загорается подсветка. Микропереключатель в ящике делает свое дело. Дом и гараж защищены охранной сигнализацией, которая автоматически включается перед сном и отключается утром. Если кто-нибудь откроет дверь в доме или гараже ночью, во дворе загорится свет, а в спальне раздастся звуковой сигнал. Домофон улавливает любые звуки в гараже и передает их в спальню». И так далее. «Но над чем я действительно хочу поработать, — мечтает хозяин дома, — так это над механической официанткой для наших пикников в подвале. У нас длинный стол, и когда здесь толпа гостей, передача еды с одного конца стола на другой отнимает слишком много времени и усилий. Как я понимаю, электропоезда, курсирующие по рельсам в центре стола, справятся с этой задачей. На каждой тарелке будут переключатели, если вы захотите еще салата, вы нажимаете кнопку, и поезд подкатывает с салатницей».
Всего, как скрупулезно подсчитали историки техники, в доме Матиаса было автоматизировано 14 домашних дел, ради которых в других домах надо было по меньшей мере дойти до выключателя, домашнего агрегата, дверной ручки или замка. Не густо по сравнению с «умным домов» Рэя Брэдбери. Но в отличие от последнего первый был настоящим, такой же и даже круче мог сделать себе или заказать сделать любой. Впрочем, гораздо важнее было то общее, что было у обоих этих домов. Оба они 74 года назад пропахали две столь глубокие борозды в представлениях человека о своем жилье, что 1950 год можно по праву считать датой рождения «умного дома».
Жаль только, что историки техники, да и сограждане Эмиля Матиаса столь потребительски отнеслись к памяти о нем: мавр показал свой дом, мавр может уходить. Возможно, если бы он набрал кучу патентов на свой дом, они отнеслись к нему благосклоннее, но ведь (каков гусь!) ни одной патентной заявки не удосужился подать! В городе Джексоне, штат Мичиган, в числе почетных горожан числятся актриса, жившая здесь до двухлетнего возраста, «мисс США» какого-то года, парочка конгрессменов и сенатор и целых два питчера высшей бейсбольной лиги. Эмиля Матиаса в этом списке нет, как, впрочем, нет там ни одного бейсбольного кэтчера (он ловит мяч, который бросает питчер).
А вскоре об «умном доме» узнали и те, кто не имел дурной привычки читать, а обходился одним телевизором. С 1952 по 1955 год редкая домохозяйка в Америке раз в неделю не освобождала себя от всех дел, чтобы не насладиться очередной серией комедийного шоу «Я женился на Джоан». В первой серии третьего сезона этого сериала, его героиня, которую играла актриса Джоан Дэвис, «королева комедии», как ее называли кинокритики, изложила мужу, судье по профессии, какой у них должен быть дом, доступным ее зрительницам языком. Если перевести ее рассказ на технический язык, получится вполне современная концепция «умного дома». Кстати, спонсировала сериал, который считается самым популярным в истории этого жанра в США, корпорация General Electric.
Эпоху цифрового «умного дома» открыли не ведущие IT-компании, а опять-таки энтузиаст-одиночка инженер из Westinghouse Electric Джеймс Сазерленд. Если Эмиль Матиас для оборудования своего «умного дома» воспользовался электромотором списанного бомбового прицела, то Сазерленд, который писал «софт» для логического блока разрабатываемых его компанией ЭВМ, в 1965 году притащил домой целый компьютер мейнфреймового размера, списанный Westinghouse Electric из-за его бесперспективности, и сделал из него сервер для управления домашним хозяйством и воспитания детей.
«Мозг» умного дома Сазерлендом уместился в четырех шкафах 1,8 м х 1,2 м х 0,6 м. Общались с ним хозяева с помощью клавиатуры от электрической пишущей машинки, переделанной для этого хозяином дома. Отвечал дом на распоряжения хозяйки либо действием, включая или выключая тот или иной домашний прибор или распечатывая нужную ей информацию на принтере. Компьютер сообщал прогноз погоды, вел домашнюю бухгалтерию, записывал на магнитофонные бобины голосовые письма родителям хозяев, бабушкам и дедушкам их детей, и распечатывал наклейки на конверты с их адресами. Управлял всеми цифровыми часами в доме, кондиционерами, телевизором и его антенной. В будние дни дети не могли включить телевизор, не ответив прежде на вопрос, сделали ли они домашние задания. А назвал все это инженер Сазерленд ECHO IV (Electronic Computer for Home Operation — электронный компьютер для домашнего использования). Индекс IV был в названии того мейнфрейма PRODAC IV, из которого Сазерленд соорудил свое домашнее «ЭХО».
Это было тоже своего рода шоу. Домохозяйки с большим интересом ознакомились с интервью Рут Сазерленд, которая понятным им языком объяснила основные принципы обустройства ее мужем цифрового «умного дома»: «Сначала я подумала, что это действительно может заменить меня! Судя по мультфильмам о компьютерах, разве не такое общее впечатление сложилось бы у большинства из нас, если бы они вдруг узнали, что у них дома есть компьютер? …Самым важным днем был тот, когда его включили и ничего не взорвалось! Однажды, пока муж его только налаживал, соседский ребенок нажал кнопку на клавиатуре и включил компьютер. Именно тогда я поняла, что не знаю, как его выключить, если не считать отключения питания всего дома. Я уверен, что ребята в офисе Джима подумали, что я сошла с ума, когда я попросила их оставить для него сообщение: «Пожалуйста, позвони домой! Компьютер работает. Как мне его выключить?» Но теперь я в восторге от компьютера в моем доме. Каким чувством выполненного долга будет для меня теперь ответить: «Сегодня я написала новое меню и программу для составления списка покупок», — когда Джим задаст вопрос, который каждый мужчина задает своей жене, возвращаясь домой с работы: «А чем ты сегодня занималась?» Я в восторге от компьютера в моем доме, который избавил меня от некоторых более рутинных задач, так что у меня есть время делать три вещи, которые для меня являются чистым отдыхом: продолжать шить всю одежду для семьи, время воплощать идеи по украшению дома и заниматься работой на свежем воздухе с цветами и садом… Домохозяйки должны знать, что компьютер делает только то, что ему говорят, с помощью программы, написанной в понятной машине форме. Это почти то же самое, что учить ребенка выполнять определенную работу по дому или задачу. Лишь одно важное отличие заключается в том, что компьютер всегда выполняет это в точности так, как запрограммировано. На данный момент я не могу сказать или даже постичь все то, что компьютер когда-нибудь сделает для наших домов, но разве не было бы замечательно, если бы они могли предоставить родителям больше времени для общения со своими детьми, тем самым сделав каждый дом счастливее?»
Всем и в первую очередь домохозяйкам было понятно, что для управления бытовыми приборами в доме народу требовалось что-то попроще, чем такой мейнфрейм. Но такой инструмент появится только спустя десять лет. Этот был так называемый протокол Х-10 шотландской компании Pico Electronics. Почему он был десятым? Только потому, что Pico Electronics была компанией молодой, появившейся только в 1970 году и успевшей завершить только восемь своих проектов, связанных с микрокалькуляторами, и занявшаяся девятым по счету. Крупнейший мире на тот момент производитель устройств для автоматической смены пластинок в проигрывателях компания Birmingham Sound Reproducers (BSR) заказала Pico Electronics дистанционное управление для последней модели своего устройства торговой марки Accutrac 2000. Это был проект Х-9 шотландских инженеров, то есть девятый по счету. Но в ходе работы над ним руководство Pico Electronics здраво решила не останавливаться на проигрывателе, а самостоятельно разработать систему дистанционного управления заодно и с другими электрическими бытовыми приборами. Эта их разработка получила корпоративное кодовое название Х-10. Как шутил много лет спустя один из инженеров разработчиков, лучше бы они сразу занялись Х-11, потому результат их работы со стороны выглядит довольно просто, а далось это им множеством проб и ошибок. Было это в 1974 году.
Протокол Х-10 для передачи цифровых команд использовал обычную домашнюю электропроводку, посылая по ней сигналы в виде коротких радиочастотных всплесков. Однако при испытаниях в специально снятом для опытов с Х-10 доме на Лонг-Айленде в Нью-Йорке в течение дня система работала нормально, а вечером, когда народ возвращался с работы домой и включал свет, радио, ТВ, чайники, микроволновки и т.д., шум в сети переменного тока усиливался до такой степени, что система переставала работать. Ее доработка продолжались три года, и только в 1977 году Pico Electronics подает в Великобритании и США патентные заявки на имя двух своих ведущих инженеров Дэвида Кемпбелла и Дэвида Томпсона на «систему управления с передатчиком данных и множеством подчиненных блоков, к которым подключены управляемые приборы. Каждое подчиненное устройство включается цифровым рабочим сигналом, соответствующим его адресу» (британский патент №1592971 от 15 июля 1981 г. и патент США 4200862 от 29 апреля 1980 г.).

Поначалу система имела кабельный 16-канальный кнопочный пульт управления, потом появился дистанционный пульт, а в 1984 году в систему Х-10 добавили приставку Homeminder («Домашний опекун»), продукт General Electric. По сути это был видеомагнитофон, который выводил на экран телевизора графические изображения всех подключенных к Х-10 ламп и приборов и позволял управлять всем домом с телевизора. Для удешевления своей системы Х-10 Pico Electronics перенесло ее производство в Малайзию, потом в Гонконг, а в том же 1984 году открыла еще один свой завод в континентальном Китае.
Словом, во второй половине 1970-х годов процесс не только пошел, но еще ускорился и углубился, как любил говорить у нас один известный персонаж. Инженеры Pico Electronics хоть и были первыми, но далеко не единственными. Вот, например, патент ФРГ №3035965 1981 года (с приоритетом от сентября 1980 года) на «Систему передачи данных», очень похожую на Х-10. Подобные интегрирующие управление «умным домом» системы росли как грибы после дождя. Открывался принципиально новый рынок, и IT-компании и производители домашней техники устремились наполнять его своей продукцией. При этом самого термина «умный дом» еще не было, зато как из рога изобилия посыпались его концепции. Появились и специалисты по концепциям «умного дома», и очень скоро их стало едва ли не больше, чем инженеров и изобретателей, которые, собственно, создавали технологии умного дома.
По этим концепциям вот уже полвека ежегодно пишутся сотни научных статей и монографий, на международных симпозиумах обсуждаются и утверждаются новые формулировки концепции «умного дома», защищаются диссертации с еще более новыми концепциями. Вот, например, сравнительно недавно изданный фолиант из 400 страниц «Intelligent buildings design, management and operation» («Проектирование, управление и эксплуатация интеллектуальных зданий»), который, по словам его редактора, почетного президента Группы интеллектуальных зданий (IBG) и советника Министерства торговли и промышленности Великобритании, является «уникальной книгой, квинтэссенцией путеводителя по лабиринту доктрин и мнений, которые в конечном счете сходятся, чтобы выразить саму суть того, что мы в настоящее время называем интеллектуальным зданием».
Оно и понятно. Ныне «умный дом» — это прежде всего бизнес. Участвуют в нем вендоры (поставщики) оборудования для автоматизации и контроля, дистрибьюторы ПО, девелоперы и строительные компании, дизайнеры и архитекторы, стандартизующие и сертифицирующие организации, венчурные инвесторы (то есть инвесторы, сознательно идущие на большой риск потерять свои деньги). Список можно проложить, особенно если включить в него фирмы из смежных индустрий (полупроводники, электроника, отдельные составные компоненты умных домов и т.д.).
Бизнес большой. По данным считающегося солидным в маркетологических кругах немецкого портала Statista мировые продажи комплектующих умного дома в 2023 году составили около $130 млрд. Но все же этот рынок не такой большой и растет не так быстро, как хотелось бы его участникам, а рентабельность продаж на нем в 10% вообще несолидная с учетом специфики товара: «комфорт и избавление от домашних забот с доставкой на дом — прямо сейчас». Лидеры на этом рынке США и Китай, Великобритания, Япония и Германия. У нас в России объем продаж на этом рынке на два порядка ниже, несмотря на старания Яндекса, VK и прочих отечественных IT-гигантов.
Впрочем, все эти оценки рынка «умного дома» довольно лукавы. Ведь речь идет не о продажах «умного дома под ключ», а всего лишь о комплектующих для умного дома, что перекрывается с рынком IoT (интернета вещей), объем продаж на котором превышает сейчас $200 млрд. Здесь для России совсем другие цифры: около 70 млн подключенных к IoT устройств в 2022 году (более поздних данных пока нет), а скорректированный с учетом этого объем продаж на отечественном рынке «умного дома» не на два, на один порядок ниже, чем у лидеров рынка.
Однако все это жонглирование цифрами, что у нас, что на мировом рынке, не более чем элемент корректировки мифологии большого бизнеса ради понятно какой цели — получения максимальной прибыли. Гораздо информативнее, например, соцопрос потенциальных потребителей продуктов и услуг умного дома из 11 регионов РФ, включая Москву и Московскую область, в возрасте от 20 до 50 лет, готовых потратить на это сумму больше 50 000 рублей, проведенный сотрудниками экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в 2015 году. Среди них были и такие, кто не пожалел бы миллиона и даже больше, но в 9 случаях из 10 респонденты сочли неразумными траты на вложение ума в свое жилище больше 150 000 рублей. При этом заметная доля респондентов не собиралась тратиться на «мастеров умного дома» и тем более дизайнеров, предпочитая своим руками вложить в свой дом столько ума и такого ума, какой они считают нужным.
Нада также сказать, что концепции «умного дома» за последние полвека изменились кардинально. Если первые из них сфокусировались на максимальном избавлении человека от обычных бытовых домашних забот путем их автоматизации, то есть создания максимально комфортного жилья, то довольно быстро всё это дополнила концепция энергосбережения, которой отныне подчинялось всё остальное. Дорого обходящийся умный дом продать проблематично. Массовый покупатель при прочих равных характеристиках предпочтет дом глупый, но дешевый в эксплуатации.
В итоге в 1985 году появляется концепция «умного дома» Института интеллектуального дома в Вашингтоне: «Интеллектуальные здания — это такие здания, которые помогают их владельцам, управляющим и жильцам реализовать свои цели в области снижения затрат, управления энергопотреблением, комфорта, удобства, безопасности». Тут все предельно понятно: в первую очередь «снижение затрат» и лишь потом комфорт, удобство и безопасность. В первую очередь реализация целей владельцев здания, управляющих компаний и только потом жильцов.
Для особо непонятливых на международном симпозиуме по «умному дому» в Торонто в том же 1985 году было сказано: «Интеллектуальное здание сочетает инновации и технологии с умелым управлением для максимальной отдачи от инвестиций». Дальше — больше. В 2003 году в определении «умного дома» появляется среда его, дома, обитания: «Интеллектуальное здание — это такое здание, в котором его структура, пространство, услуги и информационные системы могут эффективно реагировать на первоначальные и меняющиеся требования владельца, жильцов и окружающей среды (environment)». Тут тоже все ясно: к требованиям жильца к своему жилью добавляются еще и требования к его жилью «окружающей среды». А точнее, тех, кто сам себя уполномочил что-либо требовать от имени «окружающей среды». Например, концепция знаменитого умного дома Билла Гейтса в Сиэтле на берегу Вашингтонского озера, вложение ума в который, говорят, обошлось ему в $60 млн, предусматривает минимизацию излучения тепла здания в атмосферу и далее во Вселенную. Возможно, и в OpenAI он инвестировал по тому же принципу.
Несколько иная была ситуация в нашей стране. У плановой социалистической экономики были свои тараканы в голове, как говорят в народе. Как раз в попытке прибить их тапком «умного дома» инженеры ВНИИ технической эстетики Госкомитета по науке и техники при Совете министров СССР разработали «одно из возможных проектных решений домашнего телерадиокомплекса 2000 года». Опубликована эта концепция была в статье «СФИНКС — радиоэлектронное оснащение жилища будущего» в ведомственном журнале ГКНТ СССР «Техническая эстетика» в сентябре 1987 года. Журнал доступен в интернете, желающие могут почитать его сами. Но прежде полезно будет пробежать в июньском номере того же журнала за тот же 1987 год статью «Перспективная концепция дизайна бытовой радиоэлектроники» кандидата искусствоведения Дмитрия Азрикана, который возглавлял во ВНИИТЭ группу, разработавшую «СФИНКС».
«Главный недостаток дизайна отечественной бытовой радиоэлектроники состоит в оторванности трех основных ее ветвей (магнитофоны, телевизоры, радиоаппаратура) друг от друга, вызванной ведомственными барьерами, воздвигнутых в недрах головного министерства и распространившимися на всю систему проектирования и производства этой техники. Ведомственность особенно неуместна в связи с процессами интеграции бытовой аппаратуры, которые ставят требования совместимости, сопрягаемости уже не только в таких традиционных сочетаниях, как магнитофон — усилитель — проигрыватель — акустические системы, но и в таких как видеомагнитофон — персональный компьютер — телемонитор — электронная игра — акустические системы — принтер и т.д.».
Ну, а когда ведомственные барьеры окончательно рухнут, пишется в анонимной, надо полагать редакционной статье, уже в сентябрьском номере журнала, тогда «вся работа по приему записи, хранению и раздачи различных видов информации будет осуществляться центральным квартирным процессором с универсальным запоминающим устройством. Новейшие исследования и разработки в электронике дают основания надеяться на появления такого универсального носителя уже в ближайшее время».
И тогда «футурологическая дизайнерская разработка», как характеризовали ее сами авторы, под названием «СФИНКС — суперфункциональная интегрированная коммуникативная система», позволявшая «начать оснащение квартиры с любой первоочередно необходимой монофункции», окончательно «остановила бы интервенцию в домашнюю среду всяческих «ящиков» — магнитофонов, телевизоров, видеомагнитофонов, проигрывателей, радиоточек, часов, телефонов, слайд-проекторов, а затем — персональных компьютеров, электронных игр и т.п., при этом включив себя неограниченное число новых функций: работа в интерактивном режиме, «контроль за жилищем», справочная служба, медицинская диагностика». Случится все это должно было по расчетам сотрудников ВНИИТЭ, как вы помните, к 2000 году.
Судьба распорядилась с советским «умным домом» по-своему. В 2000 году «ящиков» в радиоэлектронной домашней среде действительно поубавилось. Радиоприемник, проигрыватель и магнитофон слились в музыкальный центр с компакт-дисками, телевизор с видеомагнитофоном. Правда, появился еще один «ящичек» — модем. А руководитель группы «СФИНКС» во ВНИИТЭ Дмитрий Азрикан, уже пять лет как работавший в Западно-Мичиганском университете, в 2000 году подал заявку на свой пятый патент США №6247754 на «Разборное кресло», которое можно было собирать и разбирать без единого инструмента. На тот момент в его изобретательском портфеле уже были патенты США на «многоцелевой декоративный светильник», «многофункциональную скамейку», «разборный стол» и «универсальный узел разборной мебели».
Все советские авторские свидетельства и патенты его и его коллег из ВНИИТЭ, относящиеся к «умному дому», так и остались футурологическими проектами, хотя с инженерной точки зрения все в них было разложено по полочкам в правильном с современной точки зрения порядке: основные компоненты — контроллер платформы (хаб), домашний шлюз и датчики и актуаторы, связанные между собой по силовой проводке и/или каналам радиосвязи, инфракрасным, лазерным.
Советская концепция «умного дома» ни для кого откровением не стала, даже в отдельно взятой нашей стране. И не потому, что была опубликована только в ведомственном журнале с микроскопическом по советским меркам тиражом в 27 000 экземпляров, причем как раз на фоне пика несравненно более громкой «футурологии» партии и правительства иного рода, как сейчас сказали бы экзистенциального, «стремительным домкратом» низвергавшейся с экранов телевизоров и страниц газет. А просто потому, что наступила эпоха ПК и таким был мировой тренд инженерной концепции «умного дома», которая набирала силу без участия в этом девелоперов, риэлторов, архитекторов, дизайнеров, вендоров, дистрибьюторов, инвесторов и других причастных, которые, впрочем, постарались удержаться на гребне волны, когда эта волна уже набрала силу.
В десятые года нашего века из концепций «умного дома» исчезают красивое, но в данном случае бессмысленное слово «умный» («интеллектуальный») и появляется термин «домотика» (domotics — по аналогии с robotics, то есть робототехникой). «Умный дом» становится домом-роботом, достаточно понятливым, чтобы понимать язык ИКТ и IoT (сетевой протокол информационно-коммуникационных технологий и интернета вещей). А в декабре 2015 года на весьма представительной Международной конференции по управлению, приборостроению, связи и вычислительным технологиям, проходившей в Индии в священном для индийцев городке Каньякумари, где был развеян прах Махатмы Ганди, была доложена и одобрена концепция «мобильной домотики с использованием интернета вещей» (Mobile based home automation using IoT), то есть управления домом-роботом с помощью смартфона хоть из другого полушария.
Таким образом, окончательно расчистилось поле для второй попытки инженерной и изобретательской мысли создать «умный дом», заточенный в первую очередь не на максимальное повышение прибылей производителей «умной» домашней техники и охрану окружающей среды, а на максимальное удобство хозяев «умного дома». С учетом толщины их кошелька, разумеется.
Полезное от Онлайн Патент:
→ Что такое Реестр отечественного ПО?
→ Бесплатный онлайн-поиск по базам данных Роспатента и Мадридской системы (доступно после регистрации).
→ Может ли иностранная компания внести свою программу в Реестр отечественного ПО?
→ Как IT-компаниям сохранить нулевой НДС и попасть в Реестр отечественного ПО
→ Как запатентовать технологию?
